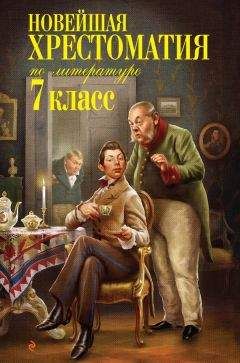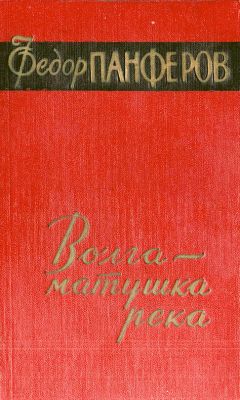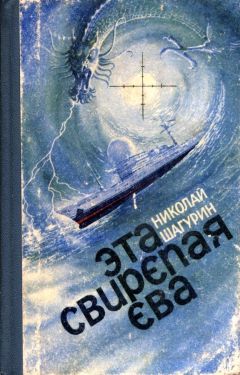– Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь – пососи.
Я говорю:
– Не хочется.
– Дурочка, – говорит, – да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом – на минуту гаснет. Соси скорее, соси!
Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже… выпила… и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю… А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу… Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.
Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».
– Спасибо, голубчик, – не говори: мне это нужно.
И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку… Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»… Глоток, два, три… Уголек залила, и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, – юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать – фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!
Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.
Николай Алексеевич Некрасов
1821–1878
* * *
В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!
Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная –
Солнце нещадно палит.
Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!
Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую –
Некогда кровь унимать!
Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда – растрепалися косыньки, –
Надо ребенка качать!
Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!..
Слезы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,
Канут они – все равно!
Вот она губы свои опаленные
Жадно подносит к краям…
Вкусны ли, милая, слезы соленые
С кислым кваском пополам?..
Зеленый шум[56]
(В сокращении)
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
Играючи расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако: все зелено,
И воздух, и вода!
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!
«Будешь жить ты припеваючи!»
И сбылось, по воле божией,
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!
В ключевой воде купаюся,
Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаюся
С непосеянной полосыньки!
А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою,
Пуще мужа наряжается –
Носит лапти с подковыркою!..
* * *
Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.
Говори же, когда ты сердита,
Всё, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир и скорее наскучит.
Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья…
* * *
Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.
Но люблю я, весна золотая,
Твой сплошной, чудно-смешанный шум;
Ты ликуешь, на миг не смолкая,
Как дитя, без заботы и дум.
В обаянии счастья и славы,
Чувству жизни ты вся предана, –
Что-то шепчут зеленые травы,
Говорливо струится волна;
В стаде весело ржет жеребенок,
Бык с землей вырывает траву,
А в лесу белокурый ребенок –
Чу! кричит «Парасковья, ау!»
По холмам, по лесам, над долиной
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышны – напев соловьиный
И нестройные писки галчат,
Грохот тройки, скрипенье подводы,
Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок, – в просторе свободы
Все в гармонию жизни слилось…
Я наслушался шума иного…
Оглушенный, подавленный им,
Мать-природа! иду к себе снова
Со всегдашним желаньем моим –
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.
День-деньской моя печальница,
В ночь – ночная богомолица,
Векова моя сухотница…
Чуть живые, в ночь осеннюю
Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Славу богу, добираемся.
– Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!
Посетила ли кручинушка?
Молви – может и размыкаю.
И поведала Оринушка
Мне печаль свою великую.
– Восемь лет сынка не видела,
Жив ли, нет – не откликается,
Ужь и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.
Вышло молодцу в бессрочные…
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку!
Да не долги были радости.
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек!
Говорит: «поправлюсь, матушка!»
Да ошибся – не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился…»
Замолчала – не прибавила
Ни словечка, бесталанная.
– Да с чего же привязалася
К парню хворость окаянная?
– Хилый, что ли, был с рождения?..
Встрепенулася Оринушка:
«Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка!
Подивился сам из Питера
Генерал на парня этого,
Как в рекрутское присутствие
Привели его раздетого…
На избенку эту бревнышки
Он один таскал сосновые…
И вилися у Иванушки
Русы кудри как шелко́вые…»
И опять молчит несчастная…
– Не молчи – развей кручинушку!
Что сгубило сына милого –
Чай спросила ты детинушку? –
«Не любил, сударь, рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу – богу обреченную!
Говорить – гневить всевышнего,
Окаянных бесов радовать…
Чтоб не молвить слова лишнего,
На врагов не подосадовать,
Немота перед кончиною
Подобает христианину.
Знает бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!
Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне, умираючи.
Тихо по двору похаживал
Да постукивал топориком,
Избу ветхую облаживал,
Огород обнес забориком;
Перекрыть сарай задумывал.
Не сбылись его желания:
Слег – и встал на ноги резвые
Только за день до скончания!
Поглядеть на солнце красное
Пожелал, – пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею.
Сенокосом шел – задумался,
– Ты прости, прости, полянушка,
Я косил тебя во младости! –
И заплакал мой Иванушка!
Песня вдруг с дороги грянула,
Подхватил, что было голосу
– «Не белы снежки», закашлялся,
Задышался – пал на полосу!
Не стояли ноги резвые,
Не держалася головушка!
С час домой мы возвращалися…
Было время – пел соловушка!
Страшно в эту ночь последнюю
Было: память потерялася,
Всё ему перед кончиною
Служба эта представлялася.
Ходит, чистит амуницию,
Набелил ремни солдатские,
Языком играл сигналики,
Песни пел – такие хватские!
Артикул ружьем выкидывал,
Так, что весь домишка вздрагивал;
Как журавль стоял на ноженьке
На одной – носок вытягивал.
Вдруг метнулся… смотрит жалобно…
Повалился – плачет, кается,
Крикнул «ваше благородие!»
Ваше!»… вижу – задыхается:
Я к нему. Утих, послушался –
Лег на лавку. Я молилася:
Не пошлет ли бог спасение?..
К утру память воротилася,
Прошептал: «прощай, родимая!
Ты опять одна осталася!..»
Я над Ваней наклонилася,
Покрестила, попрощалася,
И погас он словно свеченька
Восковая, предыконная…»
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..